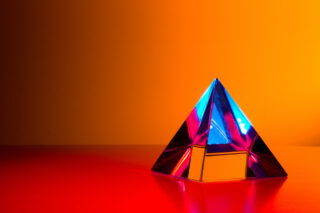Постановка проблемы
Зависимости, связанные с использованием современных информационных технологий, распространение которых в ряде стран приняло характер эпидемии, все больше привлекают внимание общественности и исследователей.
Отличительной особенностью интернет- зависимости является то, что под этим названием скрывается обширное семейство, включающее как давно известные, нашедшие в сети благодатную почву аддикции, превратившиеся в кибераддикции, так и новые, возможные только online. Это обстоятельство позволяет говорить о новом этапе развития аддикций в условиях двумирности, сосуществования компьютерного виртуального и реального миров.
Сходство проявления фармакологических, наркотических, и поведенческих зависимостей нашло выражение в распространении медицинской точки зрения на интернет-зависимость.
Начало разработкам по своей сути симптоматического подхода к ней положили психиатры и психотерапевты (К.С. Янг, А. Голдберг, М. Гриффитс, M. Oрзак и др.). Его сторонники в основном за счет внешней «фактуры» конкретизируют виды, стадии формирования интернет-зависимости, выделяют большее или меньшее количество критериев (среди основных – симптомы отмены; толерантность; потеря контроля, социальная дезадаптация), предлагают разные варианты их обозначения и/или структурирования.
При этом лишь косвенно затрагивается обстоятельство, на которое указывают этимология слова, производного от addiction, и значение используемого в качестве его синонима – зависимость. Они объединяют идеи пристрастия, преданности, рабства, отсутствия собственной воли, подчиненности некоторой силе (внешней или внутренней), подразумевающие самоотчуждение или отчуждение части себя.
З. Фрейд связывал зависимости с другим аспектом отчуждения – бегством от неудовлетворяющей действительности. Он ранжировал методы, с помощью которых люди стараются обойти неизбежные в жизни страдания, по степени ослабления связи с реальностью.
Сублимация влечений посредством психической и интеллектуальной деятельности, как творческой, так и обычной работы по профессии (если она свободно выбрана), кладет начало независимости человека от внешнего мира. Погружение благодаря искусству в утешительные иллюзии, жизнь в фантазиях, еще больше отдаляют его от действительности.
Отшельничество, уход, которые усматривают в ней врага, делают разрыв окончательным. К этим методам без очевидных границ примыкает патология – невроз, психоз и хроническая интоксикация (наркотиками, алкоголем). Удалению от реальности придается скорее позитивный смысл, оценка отчуждения – негативная [14].
Определение мотивации интернет-зависимости, как отвлечения, посредством ухода в более комфортный виртуальный мир [2; 17] воспроизводит мысли З. Фрейда.
Однако, несмотря на то что в психологической литературе, посвященной интернет-зависимости замечание о бегстве, отчуждении является едва ли не дежурным, оно нуждается в подкреплении эмпирическими исследованиями, устанавливающими связи интернет-зависимости и отчуждения, его специфику при этой зависимости.
Проблематика отчуждения, явно не укладывающаяся в рамки медицинского подхода, разрабатывалась в психоанализе и экзистенциальной психологии, представители которых, с разных точек зрения и на разных уровнях анализируют одно и то же: тревогу, отчаяние, отчуждение человека от самого себя и от общества [11, с. 122].
В статье мы используем интерпретацию отчуждения, предложенную С. Мадди, в рамках его экзистенциальной концепции личности, развивающей взгляды З. Фрейда, Э. Фромма, К. Хорни, Л. Бинсвангера, М. Босса, Р. Мэя и др.
С. Мадди не считает отчуждение присущим человеку вообще. Он представляет формирование, жизненный стиль и подробную характеристику двух личностных типов: не склонного к отчуждению – индивидуалистического – и конформного, которому присуще «неприятие непокорного ему мира или жалость к самому себе как к несчастной жертве» [7, с. 96].
Сходство интернет-зависимой личности и конформиста типа дает основание рассматривать ее в качестве разновидности этого типа. У обоих совладание с изменениями, жизненными трудностями, связано с уходом через отвлечение.
Предпосылка развития индивидуалистического типа (стиля жизни) – формирование у ребенка, когда он еще находится в зависимости от взрослых, жизнестойкости, и ее установок, которые развиваются на протяжении дальнейшей жизни. Установки жизнестойкости определяются как альтернативы отчуждения и его проявлений.
Так «люди с сильным компонентом вовлеченности (commitment) считают, что наилучший способ найти интересное и ценное для себя – это активное участие во всем, что происходит. Противоположность этому – состояние или чувство невовлеченности, отчуждения – они воспринимают как напрасную трату жизни» [7, с. 90].
Второй установке жизнестойкости – контролю (control) противостоит бессилие (powerlessness), которое С. Мадди обозначает как один из типов отчуждения, предполагающий отчаяние из-за невозможности влиять на важные личные и общественные дела.
Третья установка – вызова или принятия риска (challenge) является альтернативой установки на безопасность, также соотносимой с отчуждением. Благодаря жизнестойкости уже в юности последовательно преодолеваются незрелые жизненные стили: гедонизм (эстетизм), ориентированный на наслаждения здесь и теперь и идеализм, устремленный к абсолюту, недостижимому совершенству. Они являются аналогами эстетической и этической стадий человеческого существования, выделяемых Кьеркегором [4], что позволяет говорить о близости понятий жизненный стиль и способ бытия-в-мире.
Отказ от гедонизма и идеализма создает условия для формирования индивидуализма и одноименного жизненного стиля, основанного на аутентичности и самодетерминации.
Конформист – человек с дефицитом жизнестойкости, «застрявший» на гедонистической стадии, предающийся страстям (на языке психоанализа руководствующийся принципом удовольствия). Сходным образом можно определить зависимую личность.
В отличие от невротика, тщательно скрывающего предосудительное влечение, прежде всего от самого себя, она настаивает на своем праве на отклоняющееся, не укладывающееся в обозначенные обществом границы, поведение; получает удовлетворение от «симптомов» и не горит желанием избавиться от своей болезни. От действий зависимой личности и их последствий страдает не столько она сама, сколько окружение [13, c. 61].
Совладание конформиста с изменениями С. Мадди определяет как регрессивное. Точно так же психоаналитики толкуют зависимости как проявление регрессии, использование в качестве стратегий преодоления жизненных трудностей детских моделей поведения [8, c. 161].
Интернет-зависимое поведение можно соотнести и с идеалистическим стилем жизни, противопоставлением существования в виртуальном мире суете мира реального, в котором другие «работают-женятся-разводятся-покупают / продают дома / машины / бизнес, где-то крутятся, становятся людьми…» (запись из дневника участника виртуального сообщества).
Суждение С. Мадди о конформисте, как не вышедшем из под влияния окружающих, и его социальных отношениях, скорее контрактных, чем интимно-личных, можно распространить на интернет зависимость в одной из ее наиболее массовых форм, связанной с предпочтением общению лицом к лицу POSI (preference for online, over, social interaction), общения через Интернет, не предполагающего интимно-личностных ответственных отношений с другими людьми. POSI играет важную роль в формировании не только специфической, но и генерализованной интернет-зависимости [1, с. 20-21].
Фрагментированности и недифференцированности биологического опыта конформиста соответствует невоплощенность (в теле) Как хамечает теоретик медиа Маршалл Маклюэн, в эфире у нас нет физического тела [8].
В интернете, который объединил в себе телефон, радио, телевидение и постоянно обогащает «жизнь» в эфире новыми возможностями, создаются все более благоприятные условия для невоплощенного существования посредством виртуальной симуляции и виртуальных симулякров [5; 6].
По мнению С. Мадди, становление собой и смыслообразование – единый процесс, поскольку истинный смысл может быть только индивидуальным, субъективным. Индивидуалист способен преодолевать экзистенциальную тревогу, связанную с выбором будущего, обновлением жизни, уверен в своей способности обнаружить и реализовать смысл. Самоотчуждение и отчуждение конформиста – ограничители его способности к смыслообразованию.
У интернет-зависимой личности, дегенерация процессов смыслообразования имеет непосредственное отношение к существованию, ограниченному виртуальным миром, который С. Хоружий обозначил как недород бытия, а человека, ведущего подобное существование – homo virtualis [16].
Вопрос о выборе будущего в условиях виртуальной реальности, позволяющей играть со временем, обращать его вспять, по желанию останавливать мгновение, сам собой отпадает.
За возможность избежать экзистенциальной тревоги, связанной с выбором будущего, homo virtualis подобно конформной личности, расплачивается чувством онтологической вины, которое «выражается в ощущении собственной бесполезности и беззащитности, смутном переживании нехватки чего-то важного в жизни» [7, с. 94].
Конформист признает стоящим только связанный с безопасностью предсказуемый опыт, который может продолжаться вечно. Такими качествами в существенной мере обладает опыт пребывания в сети, однако оценивать его позитивно мешает опыт неудач за ее пределами, который интернет-зависимой личностью, подобно конформной «воспринимается как ужасный и избегается любыми возможными способами, в результате чего обычно теряется возможность чему-либо научиться на нем» [7, с. 94].
Под действием стрессоров (в качестве источника стрессов указана, в частности, жизнь в информационном обществе) конформистский жизненный стиль распадается и переходит в экзистенциальный недуг, в котором выделяются вегетативный, нигилистический и авантюристический типы, с преобладанием одноименных форм отчуждения.
Вегетативность (vegetativeness) как самая тяжелая форма экзистенциального недуга, исключает наличие смысла и каких-либо связанных с ним действий.
При нигилизме (nihilism) смысл обнаруживается в неразвитой, экзотической форме антисмысла и попыток его утверждения.
Авантюризм (adventurousness) ограничивает человека суррогатами смысла, которые он искусственно привносит в жизнь, гоняясь за адреналином, ввязываясь в рискованные приключения.
При сходстве интернет-зависимости с конформным, отчужденным способом существования, деградирующим до экзистенцильного недуга, она представляет собой самостоятельный феномен, относительно которого могут быть сформулированы гипотезы дальнейшего исследования:
- Интернет-зависимость предполагает рост отчуждения в различных формах и сферах жизни.
- Исходя из того, что интернет-зависимость является одним из способов отчужденного существования, можно предположить наличие в общей выборке групп респондентов
- с высоким уровнем интернет-зависимости и отчуждения;
- с низким уровнем интернет-зависимости и высоким – отчуждения.
Организация и методики исследования
Выборку исследования составили 191 человек – студенты вузов г. Перми (возраст от 18 до 22 лет).
Предпочтение выбора в диагностических целях «Китайской шкалы зависимости от Интернета» (CIAS) С.-Х. Чена CIAS связано с тем, что в ней наиболее полно реализован медицинский подход. Шкала позволяет выявить как ряд частных симптомов, так и интегральные измерения интернет-зависимости. Опросник разработан на Тайване, нашел широкое применение в Китае и был адаптирован в России [9].
В исследовании был также использован один из вариантов опросника самоотчуждения ОСОТЧ-У. Он предназначен для учащейся молодежи и был разработан Е. Осиным [12] на основе теста отчуждения С. Мадди, С. Кобэйса и М. Хувера [18]. Тест, однако, диагностирует не собственно отчуждение как состояние, а его переживание.
С. Мадди различает их, указывая, что поверхностный стиль жизни конформистами обычно не осознается, они «настаивают, что живут хорошо, скрывают чувства своей беззащитности и бесполезности» и к осознанию своего жизненного стиля приходят, когда игнорировать собственное неблагополучие становится невозможно [7, с. 94].
Результаты исследования
Характеристики, составляющие паттерн интернет зависимого поведения теста С.-Х.Чена.
- ключевые симптомы зависимого поведения (IA-Sym): компульсивности,(навязчивого, непреодолимого влечения находиться online), толерантности (роста времени пребывания в интернете, необходимого для достижения удовлетворения) и отмены (развивающиеся при прекращении или ограничении нахождения online психомоторное возбуждение, тревога, фантазии, мечты, мысли о том, что происходит в сети и т. д.).
- жизненные проблемы, производные от интернет-зависимости: (IA-RP): межличностные, внутриличностные и проблемы со здоровьем, а также с контролем времени, проводимого online взаимосвязаны практически со всеми измерениями переживания отчуждения в многообразии его форм (вегетативность, бессилие, авантюризм) и сфер проявления, от приватных до более широких. Выявлено всего 70 связей: 50 – при p <0,001, 14 – при p <0,01 и 6 – при p <0,05 (табл. 1).
Таблица 1. Взаимосвязи интернет-зависимости и отчуждения

Ключевые симптомы зависимости, относящиеся к пребыванию в Интернете, доставляющему пользователю определенное удовлетворение, предполагают отчуждение и его проявления в несколько меньшей мере, чем производные от интернет-зависимости психологические проблемы (межличностные, внутриличностные и проблемы со здоровьем): из двух надшкальных критериев (IA-Sym) оказался несколько слабее связан с общим показателем отчуждения, чем критерий проблем, сопутствующих зависимости (IA-RP), соответственно, r = 0,31 и r = 0,35, p < 0,001.
Все частные и суммарные измерения интернет зависимости означают, прежде всего, субъективное отчуждение в форме бессилия, (r = 0,45, p <0,001), которое, вероятно, отражает отчаяние homo virtualis ввиду невозможности влиять на важные личные и общественные дела в реальной жизни, а из сфер – отчуждение от самого себя (r = 0,39, p < 0,001).
Последнее соответствует характеристике, данной Э. Фроммом неврозу, и зависимости как проявлениям отчуждения, при которых одна страсть «становится доминирующей и обособляется от целостной личности, превращаясь для человека в его повелителя.
Эта страсть – его идол, которому он подчиняется, несмотря на то что он способен подобрать своему идолу разумное объяснение, присваивая ему разнообразные и звучные имена. Им управляет частичное желание, на которое он переносит все утраченное им; и чем он слабее, тем оно сильнее. Он отчужден от самого себя как раз потому, что превратился в раба одной из частей самого себя» [15, с. 72].
Хотя Интернет предоставляет возможность удовлетворения разных страстей, они не составляют целостной личности.
Практически все, за редким исключением, «составляющие» паттерна интернет- зависимого поведения связаны (в порядке убывания) с остальными формами отчуждения как смыслоутраты:
- с нигилизмом (r = 0,33, p <0,001), который, возможно, является реакцией зависимого пользователя на разноголосицу точек зрения и позиций, представленных в Интернете, в которых он не в состоянии сориентироваться, не в последнюю очередь по причине невозможности их проверки за пределами сети. В этих условиях утверждение собственного смысла выступает в неразвитой форме антисмысла;
- с вегетативностью (r = 0,28 p <0,001), более слабая связь с которой свидетельствует о меньшей вероятности превращения зависимого пользователя в «овощ», лишенный всяких интересов. То есть, самая тяжелая форма отчуждения, «растительный» образ жизни, лишенный смысла, в меньшей мере грозит увязшему в сети пользователю;
- с авантюризмом, крусадёрством, (r = 0,21, p < 0,01), наиболее слабая связь с которым может указывать, хотя и на незначительную (возможно ввиду того, что авантюры в Интернете отчасти компенсируют опасные приключениям за его пределами) представленность у зависимого пользователя этой самой мягкой из выделяемых С. Мадди форм отчуждения. Существует мнение, что собственно крусадерство является разновидностью зависимости и находит свое продолжение в «кибернет-отношениях» [10].
Аналогичным образом взаимосвязаны показатели интернет-зависимости с переживанием отчуждения в более и менее приватных сферах: в семье (r = 0,32, p < 0,001), в межличностных отношениях (r = 0,31, p < 0,001), от учебной деятельности (r = 0,29, p < 0,001), однако слабее, чем с переживанием самоотчуждения.
То есть полученные результаты несколько расходятся с исследованиями, упоминающими в связи с интернет-зависимостью только отчуждение от мира за пределами сети.
Более того, с факторами интернет-зависимости значимо не связано отчуждение от общества, что соответствует все более ярко проявляющейся тенденции виртуализации социальной жизни, перемещению источников информации о ней в интернет.
Полученные коэффициенты корреляции показателей интернет-зависимости и отчуждения указывают на достаточную самостоятельность соответствующих феноменов и, в частности, на то, что интернет-зависимость представляет собой один из способов отчужденного существования.
С целью выявления групп, различающихся уровнем интернет-зависимости и отчуждения, был предпринят кластерный анализ выборки по двум интегральным показателям шкалы С.-Х. Чена и ОСОТЧ-У (рис. 1, табл. 2).

Ориентиром для обозначения выделенных групп, служили приведенные в русскоязычной адаптации методики [9]. показатели, согласно которым минимальному риску интернет зависимости соответствует CIAS от 27 до 42, склонности к возникновению интернет зависимого поведения – от 43 до 64, а его выраженному и устойчивому паттерну – от 65 и выше, а также средний показатель отчуждения 188,15, ст. откл.33,73, полученный автором русскоязычной версии ОСОТЧ-У в студенческой выборке (N = 127) [12].
3 кластер (N = 73) может быть определен как наиболее благоприятная группа интернет- независимых (CIAS 41,407), неотчужденных (142,9) респондентов.
1 и 2 кластеры (N 52 и 66) получили названия групп респондентов, более и менее склонных к интернет-зависимости (CIAS 62,8 и 43,1), условно «отчужденных» (207,5 и 203,7).
Таким образом, вместо ожидаемых групп с контрастными уровнями интернет зависимости (высоким и низким), но при этом отчужденных, свыше половины выборки (61,6 %) составили респонденты, склонные к интернет-зависимости, различающиеся лишь тем, что в одной из них соответствующий показатель граничит с показателем сформированной зависимости, а в другой– с показателем независимости от интернета.
Это дает основание для предположения о том, что в выборке студентов, которые постоянно пользуются интернетом, отчуждение вне сети всегда осложнено отчуждением в сети.
Таблица 2. Характеристики групп, различающихся общими показателями интернет-зависимости и отчуждения
| Показатели | Группы респондентов | ||
| Более склонные к интернет зависимости «отчужденные» | Менее склонные к интернет зависимости «отчужденные | Интернет- независимые, неотчужденные | |
| Кол-во чел (%) | 52 (27,2) | 66 (34,6) | 73 (38,2) |
| Интернет- зависимость | 62,8 | 43,1 | 41,41 |
| Отчуждение | 207,5 | 203,4 | 142,9 |
При сравнении с помощью Т-критерия Стьюдента представляющих наибольший интерес для исследования групп респондентов более и менее склонных к интернет-зависимости, «отчужденных», между ними обнаружились значимые различия, которые согласуются с данными корреляционного анализа.
В группе пользователей более склонных к интернет-зависимости, по сравнению с группой менее склонных к ней, оказался выше показатель отчуждения в форме бессилия, указывающий на переживание неспособности осуществить жизненно важные смыслы в реальном мире.
Эту группу также характеризует большая выраженность переживания самоотчуждения, но меньшая – отчуждения от общественной жизни (тенденции). То есть молодые люди более склонные к интернет-зависимости в большей мерее переживают «небытие собой» и, в то же время, свою причастность (очевидно, иллюзорную) к жизни общества.
Заключение
Определения, которые С. Мадди дает конформной личности и ее жизненному стилю в статье конкретизированы по отношению к интернет-зависимой личности и ее технологическому способу существования:
- совладание с изменениями, связанное с уходом через отвлечение (в виртуальную реальность);
- гедонизм (получение удовлетворения от пребывания в сети, от «симптомов», отстаивание своего права на отклоняющееся проведение);
- поверхностные контрактные социальные отношения (предпочтение общению лицом к лицу POSI-общения через Интернет, не предполагающего интимно- личностных ответственных отношений);
- фрагментированность, недифференцированность биологического опыта, (невоплощенность, существование посредством виртуальной симуляции и виртуальных симулякров);
- страх перед опытом неудач (в неконтролируемом, в отличие от Интернета, реальном мире) и стремление избежать его;
- склонность к экзистенциальному недугу, проявляющемуся в отчуждении от себя, других людей, мира (подобно любой зависимости интернет-зависимость представляет собой способ отчужденного существования).
Эмпирически установлены характеризующие интернет-зависимость как экзистенциальную психопатологию, переживания отчуждения присущие в большей или меньшей мере значительной части (свыше 60 %) студенческой выборки:
- в различных формах, от наиболее тяжелых до легких, и сферах жизни, от приватных до широких;
- в первую очередь в форме бессилия homo virtualis, невозможности влиять на события в реальной жизни, и сфере отчуждения от собственной личности.
ЛИТЕРАТУРА
- Ван Шилу Интернет-зависимость у участников компьютерных игр (на материале китайской культуры) [Текст]: дис канд. психол. наук // Ван Шилу– М, 2013.
- Войскунский А.Е. Интернет-зависимость в медицинской парадигме / А.Е. Войскунский // Интернет-зависимость психологическая природа и динамика развития. – М.: Акрополь, 2009. С. 152-164.
- К столетию Маршалла Маклюэна [Электронный ресурс].
- Киркегор Сёрен. Наслаждение и долг [Текст] // Сёрен Киркегор. – Киев: Air Land.1994. – 504 с.
- Коптева Н.В. Особенности онтологической уверенности участников виртуальных игровых сообществ / Н.В. Коптева // Научное мнение. – 2016. – № 1-2. С. 126-137.
- Коптева Н.В. Онтологическая уверенность при разной выраженности интернет-зависимого поведения / Н.В. Коптева // Сибирский психологический журнал. – 2017 – №65, С. 6-22.
- Мадди Сальваторе Р. Смыслообразование в процессе принятия решений / С. Мадди // Психологический журнал. – 2005. – Т.26. – №6. – С. 87-101.
- Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: понимание структуры личности в клиническом процессе [Текст] / Н. Мак-Вильямс. – М.: Класс, 2001 – 410 с.
- Малыгин В.Л., Феклисов К.А., Антоненко А.А., Смирнова Е.А., Хомерики Н.С. «Интернет-зависимое поведение. Критерии и методы диагностики» Учебное пособие / В.Л. Малыгин, К.А. Феклисов – М. МГМСУ, 2011. – 32 с.
- Менделевич В.Д. Наркозависимость и коморбидные расстройства Поведения [Текст]. М.: МЕДпресс-информ. 2003. – 328 с.
- Мэй Р. Истоки экзистенциального направления в психологии и его значение/ Экзистенциальная психология. Экзистенция. – М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 105-140.
- Осин Е.Н. Смыслоутрата как переживание отчуждения: структура и Диагностика [Текст]: дис канд. психол. наук / Е.Н. Осин. М., 2007.180 с.
- Райкрофт Чарльз. Тревога и неврозы. [Текст] / Чарльз Райкрофт. – М.: ПЕР СЭ, 2010. – 142 с.
- Фрейд З. Недовольство культурой. [Текст] / З. Фрейд. – Фолио 2013.
- Фромм Э. Из плена иллюзий. [Текст] / Э. Фромм – М.: Издательство АСТ, 2017. –224 с.
- Хоружий С. Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности [Электронный ресурс].
- Янг. Кимберли С. Диагноз – интернет-зависимость / К.С. Янг // Мир Internet. – № 2. – 2000. С. 24-29.
- Maddi, Salvatore R., Kobasa Suzanne C., Hoover Marlin. An Alienation Test // Journal of Humanistic Psychology, vol. 19, 4, 197.
Об авторе
Наталия Васильевна Коптева — доктор психологических наук, профессор, ФГБ ОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», Пермь, Россия.
Смотрите также:
- Алексенко Н.Н. Психоаналитические аспекты поведения человека в киберпространстве
- Войскунский А.Е. Психологические исследования феномена интернет-аддикции
- Коптева Н.В., Калугин А.Ю., Козлова Л.А. Психометрическая проверка уточненной версии опросника «Невоплощенность в Интернете»
- Пахомова Т.В. Некоторые психологические проблемы интернет-зависимости