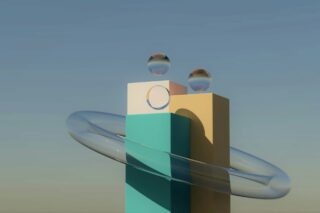Информационные технологии перестали быть отдельной сферой жизни человека – сегодня они являются ее неотъемлемой составляющей, своеобразной призмой, через которую преломляется весь круг его интересов и деятельностей [Солдатова и др., 2013].
С развитием информационных технологий связывают [How technologies…, 2009] снижение роли семьи в формировании личности (поскольку первые предлагают широкий спектр недоступных ранее ролей и моделей поведения, способов мышления и выборов), изменение ценностей и границ нормы и патологии (например, видеоигры позволяют создавать и переживать реальности, далекие от норм и ценностей общества), чрезмерную ценность информации, в отличие от знаний (как результата рефлексии, когнитивной переработки и интеграции информации).
У молодых людей деятельность, опосредствованная технологиями, нередко воспринимается как более простая и выигрышная, – например, подростки могут не видеть разницы между общением по мобильному телефону и непосредственным общением [Madell, Muncher, 2004; 2007], а потеря гаджета воспринимается как невосполнимая [Srivastava, 2005].
Особые изменения описываются в структуре идентичности: технологии «встраиваются» в идентичность. Расширяя возможности идентификации, они приводят к меньшей ее устойчивости и быстрым изменениям – и даже создают особые проявления и формы идентичности, например, описанные как «цифровая тень» [Shroff, Fordham, 2010].
С нашей точки зрения, психологическое содержание информационных технологий не сводится ни к факту или частоте пользования, ни даже к проблеме технологических зависимостей, включая комплекс изменений в мотивационной сфере личности [Рассказова и др., 2015].
Одним из центральных последствий пользования технологиями является изменение психологических границ – переживание иллюзии контролируемости и достижимости людей, информации и событий, сопряженное с чрезмерной субъективной ценностью технологии как полностью заменяющей, превосходящей непосредственную деятельность.
Описанные в литературе явления персонализации гаджетов, трудности отказа от технологий, а также признаки чрезмерного использования технологий рассматриваются в данной модели как вторичные следствия.
Преломляясь в призме технологий, привычный круг деятельностей меняет структуру. В частности, стратегии совладания приобретают другой смысл и сопряжены с иными целями и действиями – например, поиск эмоциональной поддержки в интернете и в непосредственном общении могут кардинально отличаться и приводить к разным изменениям в благополучии.
Согласно эмпирическим данным, вклад в субъективное благополучие таких способов совладания со стрессом, как обращение за социальной поддержкой и использование для успокоения лекарств или психоактивных веществ, опосредствуется психологическими изменениями при пользовании технологиями [Емелин и др., 2014].
Целью данной работы является проверка предположения о том, что информационные технологии связаны с уменьшением роли семьи и непосредственного общения в формировании личности, а также изменением роли ценностей и трудностями идентификации.
Эмпирическая часть основана на применении рисуночной методики оценки восприятия разных объектов, дающей простой способ оценки субъективной близости объекта (например, интернета или мобильного телефона) к «Я».
С одной стороны, методика хорошо согласуется с нашими представлениями о психологических последствиях применения технологий как изменении границ (расширении и размывании) и последующим изменением субъективной значимости технологий [Рассказова и др., 2015].
С другой стороны, рисуночные техники, аналогичные данной, широко используются в психологических исследованиях – для диагностики репрезентации болезни [Büchiet al., 1998; Büchi, Senski, 1999], особенностей идентификации с социальной группой [Swann et al., 2009; Gomez et al., 2011], отношения к материальным объектам [Carter, Gilovich, 2012].
Распространенная интерпретация того, как расположены объекты относительно «Я», – мера их включения в идентичность человека или, напротив, отвержения, в том числе и эмоционального.
Ранее было показано [Emelin et al., 2014], что близость кругов интернета и мобильного телефона к «Я» на среднем уровне коррелирует с рядом признаков изменения психологических границ (невозможностью отказа и расширением границ в сфере общения; кроме того, для мобильного телефона – с акцентом на функциональность мобильного телефона и худшей рефлексией нарушения границ, а для интернета – с субъективной зависимостью от него и его предпочтением по причине простоты). Это позволяет использовать методику как общий индикатор субъективной близости информационных технологий к «Я».
Однако проективный характер методики порождает и ряд вопросов: что в действительности она измеряет, какой смысл имеют расстояния между объектами, одинаков ли этот смысл для разных респондентов? При неопределенной инструкции каждый испытуемый может рисовать, руководствуясь своими критериями и смыслами или даже менять их в процессе выполнения задания.
Любые выявленные при помощи такой методики результаты должны интерпретироваться в общих чертах – например, как особенности восприятия человеком объектов, его идентификации с ними, тогда как функции и следствия этих особенностей остаются под вопросом.
В качестве эмпирических моделей были выбраны три объекта: интернет, мобильный телефон и телевизор.
Выдвигались следующие гипотезы.
- Идентификация с информационными технологиями (операционализованная как субъективная близость к кругу «Я» кругов интернета, мобильного телефона, телевизора и их размеры) сопряжена с субъективным отдалением от «Я» кругов семьи, друзей, интересов, личностных особенностей и ценностей, но не связана с восприятием макросоциального окружения (например, страны).
- Содержательные особенности восприятия других жизненных сфер и объектов, идущие рука об руку с «встраиванием» информационных технологий в структуру идентичности человека, в целом не связаны с субъективным благополучием / неблагополучием и совладающим поведением, поскольку переструктурирование восприятия человеком своей жизни не означает автоматически ее ухудшения или улучшения (например, разрушения семейных традиций или ценностной сферы). Данная гипотеза основана на нашем представлении, что технологии не должны рассматриваться в психологии ни как «зло», ни как «добро»: изменения процессов жизнедеятельности через призму технологий могут приводить к благополучию или неблагополучию – хотя и на основе специфических механизмов.
- Рисуночная методика оценки восприятия технологий является простым и валидным инструментом диагностики общей структуры идентичности и субъективной близости к «Я» различных объектов. Однако проективный характер методики не позволяет делать однозначных выводов о смысле субъективных расстояний и размеров кругов, а также о психологических коррелятах разных структур, и эти вопросы должны изучаться в отдельных исследованиях.
Методы
Выборка
В исследовании участвовали две выборки. В первую выборку (далее – «студенты») вошли 161 студент психологического факультета в возрасте от 16 до 21 года (39 мужчин, 119 женщин, 3 не указали пол; средний возраст 18,62 ± 1,14 лет).
Вторая выборка (далее – «взрослые») включала 123 взрослых респондентов в возрасте от 20 до 86 лет (62 мужчины, 60 женщин, 1 не указал пол; средний возраст 37,35 ± 14,09 лет), согласившихся принять участие в исследовании идентичности. У большинства было высшее образование (98 человек, 79,7%), у 15 (12,2%) – неоконченное высшее, у 10 (8,2%) – среднее или среднее специальное. 56 человек (46,7%) состояли в браке, 39 (32,5%) были холосты, 12 (10,0%) указали, что состоят в гражданском браке, 13 (10,8%) – в разводе, трое (2,4%) не указали своего семейного положения. У 64 (52,9%) респондентов этой группы были дети.
Все респонденты пользовались интернетом и мобильным телефоном, абсолютное большинство (более 90%) указало, что «часто» или «очень часто / почти постоянно».
Поскольку выборки были несопоставимы (разный возраст, профессии и т.п.), анализ проводился в них по отдельности, что давало возможность обсуждения воспроизводимости эффектов на разных данных (Henson, 2006, Hoekstra et al., 2006).
Методики
- Рисуночная методика оценки восприятия технологий была впервые использована нами в рамках валидизации методики диагностики изменения границ при пользовании техническими средствами [Emelin et al., 2014]. Респондентам предъявлялся лист бумаги формата А4, в центре которого был круг 5 см в диаметре. В верхней части листа располагались инструкция и список из 10 различных объектов. Три объекта касались технологий (интернет, мобильный телефон, телевизор), другие выполняли роль дополнительных (семья, друзья, работа / учеба, личностные черты, интересы, ценности, страна). Инструкция была следующей: «Представьте, что этот лист – Ваша жизнь и то, что Вас окружает. Круг в центре – это Вы. Ниже приведен список разных вещей – нарисуйте для каждой из них круг (с соответствующим номером) на этом листе, где Вам захочется. Постарайтесь рисовать первое, что приходит Вам в голову, не размышляя долго. Качество рисования и то, какие круги Вы нарисуете, значения не имеет. Пожалуйста, нарисуйте все 10 кругов, даже если что-то кажется Вам неуместным или неподходящим к Вашей ситуации». Затем измерялся диаметр каждого нарисованного респондентом круга и расстояние от него до центра (до круга, представляющего «Я»).
- Вторая версия методики оценки изменения психологических границ при пользовании техническими средствами (МИГ-ТС-2, [Рассказова и др., 2015]) – скрининговый инструмент, существующий в двух формах – для интернета и для мобильного телефона. Методика включает три блока шкал: в блок психологической зависимости входят шкалы невозможности отказа и субъективной зависимости от интернета / мобильного телефона. Блок изменения психологических границ включает шкалы расширения границ в сфере общения, рефлексии нарушения границ, предпочтения технологии в связи с ее простотой и предпочтения технологии в связи с новыми возможностями. Наконец, в блок изменения потребности входят шкалы функциональности, удобства и создания имиджа при помощи интернета / мобильного телефона.
- Шкала субъективного счастья [Lyubomirsky, Lepper, 1999; Осин, Леонтьев, 2008] – скрининговая методика оценки субъективного переживания счастья. Состоит из четырех пунктов.
- Методика диагностики совладающего поведения COPE [Carver et al., 1989; Рассказова и др., 2013] направлена на оценку выраженности 15 копинг-стратегий: (1) активное совладание, (2) планирование, (3) подавление конкурирующей деятельности, (4) сдерживание совладания, (5) поиск инструментальной и (6) эмоциональной социальной поддержки, (7) концентрация на эмоциях, (8) позитивное переформулирование, (9) отрицание, (10) принятие, (11) обращение к религии, (12) использование успокоительных, (13) юмор, (14) поведенческий и (15) мысленный уход от проблемы.
- Опросник выраженности психопатологической симптоматики SCL-90R [Derogatis, Salvitz, 2000; Тарабрина, 2007]. Методика позволяет диагностировать выраженность симптомов соматизации, обсессивности / компульсивности, тревожности, депрессивности, межличностной тревожности, враждебности, фобий, паранойяльности, психотизма. Помимо этого, на основе ответов рассчитываются общий индекс тяжести симптомов, индекс тяжести дистресса и число беспокоящих симптомов. В данном исследовании используется для диагностики выраженности субъективных жалоб на психопатологические симптомы в норме, что квалифицируется как признак психологического неблагополучия.
Обработка данных проводилась в программе SPSS 17.0.
Результаты
Особенности оценки технологий: сравнение выборок
На предварительном этапе обработки данных мы сравнивали две выборки – студентов и взрослых на основе особенностей их рисунков и психологических последствий пользования технологиями.
Абсолютное большинство (более 90%) респондентов в обеих выборках оценили частоту пользования интернетом и мобильным телефоном как «часто» и «очень часто / постоянно» – такая однородность выборок позволяет предполагать, что все выявленные далее психологические закономерности частотой пользования не объясняются.
В соответствии с данными о том, что психологические последствия пользования технологиями более выражены в молодом возрасте (Emelin et al., 2015), в выборке студентов психологические изменения при пользовании интернетом и мобильным телефоном сильнее, чем в выборке взрослых: принятого уровня значимости достигают различия по показателям субъективной зависимости от мобильного телефона, его предпочтения в связи с простотой и в связи с возможностями, удобства и создания имиджа при помощи телефона (t = 2,23–3,41, p < 0,05), невозможности отказа и субъективной зависимости от интернета, рефлексии нарушения границ, функциональности и создания имиджа при помощи интернета (t = 3,11–5,82, p < 0,01).
Схожие результаты проявляются и при сравнении выборок по критерию расстояния кругов от «Я». И в выборке студентов, и в выборке взрослых круги для технологических объектов дальше от «Я» и меньшего размера, чем другие круги, которые они рисуют в среднем, а пересечение кругов технологий с «Я» встречается крайне редко; однако между выборками есть и разница. Так, студенты рисуют круги для интернета и мобильного телефона в среднем ближе к «Я», чем взрослые (t = –2,63…–2,37, p < 0,05); при этом круги интернета и телевизора у них меньшего размера (t = –3,14 …–2,67, p < 0,01).
Субъективная близость к «Я» информационных технологий и других сфер / объектов
Корреляционный анализ расстояний объектов от «Я» показывает, что между близостью к «Я» интернета, мобильного телефона и телевизора и близостью к «Я» всех остальных объектов существует средняя или сильная положительная связь на уровне r = 0,19–0,71 (кроме нескольких отдельных исключений отсутствия корреляции) – как в выборке студентов, так и в выборке взрослых. Практически те же паттерны выявляются, если вместо расстояний анализировать сырые показатели размера (диаметра) кругов.
На первый взгляд, эти результаты противоречат гипотезе о том, что «встраивание» информационных технологий в идентичность человека сопряжено с уплощением его непосредственного межличностного общения и ослаблением связи с семейной системой.
Однако тот факт, что положительно коррелируют между собой показатели по всем объектам, позволяет предполагать, что эти связи – артефакт, вызванный общим стилем рисования респондентов.
Так, если один человек склонен рисовать все круги меньше и дальше от «Я», а другой – больше и ближе к «Я», это приведет к положительным корреляциям между всеми используемыми показателями.
Коррекция искажений, вызванных стилем рисования, проводилась двумя близкими по сути способами. Во-первых, для каждой из групп показателей (субъективная близость объектов «Я», сырые расстояния и сырые диаметры кругов) рассчитывались частные корреляции с учетом в качестве ковариаты среднего для каждого респондента показателя по всем объектам (средней субъективной близости, среднего расстояния и средних диаметров кругов соответственно).
Во-вторых, в сырые показатели расстояний и диаметров для каждого респондента вносилась поправка на его особенности рисования: из сырых показателей для каждого объекта вычитались средние для данного респондента показатели.
Поскольку оба способа привели к практически эквивалентным результатам, ниже (табл. 1) представлены только частные корреляции показателей расстояний объектов от «Я».
Если корреляции расстояний от «Я» разных технологических объектов между собой чаще отсутствуют1, то их корреляции с субъективной близостью к «Я» нетехнологических объектов в большинстве случаев отрицательны.
В целом в отношении интернета и телевизора результаты в выборке студентов и взрослых согласованы: чем ближе к «Я» респонденты размещают эти объекты, тем дальше в среднем (после поправки на среднее расстояние в рисунке) они размещают семью, друзей и личностные черты.
Схожие результаты получены в отношении интересов и ценностей, хотя в выборке взрослых корреляции между расстоянием интернета и расстоянием интересов и ценностей от «Я» не достигают принятого уровня значимости.
В отношении мобильного телефона данные также не противоречат гипотезе, но значимо различаются в двух выборках: если для взрослых при близости мобильного телефона к «Я» характерно отдаление семьи, друзей, личностных черт, интересов и ценностей (т.е. те же паттерны, что для интернета и телевизора), то для студентов значимые корреляции касаются других сфер – они склонны дальше рисовать работу / учебу, страну и интересы, но не семью и друзей.
Таблица 1. Частные корреляции расстояний от «Я» технологических и нетехнологических объектов после контроля среднего для каждого респондента расстояния в графической методике
| Расстояния объектов от «Я» по графической методике | Студенты | Взрослые | ||||
| Расстояние интернета от «Я» | Расстояние мобильного телефона от «Я» | Расстояние телевизора от «Я» | Расстояние интернета от «Я» | Расстояние мобильного телефона от «Я» | Расстояние телевизора от «Я» | |
| Расстояние семьи от «Я» | –0,26** | –0,04 | –0,26** | –0,35** | –0,43** | –0,40** |
| Расстояние друзей от «Я» | –0,18* | –0,15 | –0,20** | –0,26** | –0,40** | –0,20* |
| Расстояние учебы / работы от «Я» | –0,12 | –0,27** | –0,02 | –0,13 | –0,03 | –0,22* |
| Расстояние личностных черт от «Я» | –0,25** | –0,08 | –0,51** | –0,30** | –0,42** | –0,44** |
| Расстояние страны от «Я» | –0,23** | –0,29** | 0,04 | –0,15 | –0,06 | –0,04 |
| Расстояние интересов / увлечений от «Я» | –0,37** | –0,21** | –0,45** | –0,17 | –0,36** | –0,34** |
| Расстояние ценностей от «Я» | –0,34** | –0,13 | –0,41** | –0,12 | –0,24** | –0,30** |
Схожие, хотя и менее однородные, результаты получены в отношении размера кругов. Независимо от средней величины круга, которая характерна для каждого респондента, диаметры кругов интернета, мобильного телефона и телевизора положительно связаны (r = 0,20–0,53 у студентов и r = 0,25–0,36 у взрослых), тогда как корреляции с диаметром нетехнологических объектов чаще негативны (хотя нередко не достигают принятого уровня значимости, а трех случаях – положительны).
В целом достаточно согласованная картина между выборками отмечается в отношении семьи и страны (кроме корреляции диаметра круга мобильного телефона и круга страны в выборке взрослых): чем больше круги для технологических объектов, тем меньше круги для семьи и страны.
Кроме того, у студентов размеры кругов технологических объектов отрицательно коррелируют с размером круга ценностей (у взрослых эта связь достигает уровня значимости только в отношении интернета).
Связь рисуночной методики с изменением психологических границ при пользовании интернетом и мобильным телефоном
Интуитивно кажется понятным, что близость круга интернета или мобильного телефона к «Я» и их большой размер означают большую значимость технологии для респондента, идентификацию с ними. Но для любой проективной методики вопрос о том, в чем эта субъективная значимость заключается и какое отношение она имеет к жизни субъекта, остается открытым.
Чтобы уточнить смысл показателей графической методики, проводился корреляционный анализ расстояния и размера кругов2 интернета и мобильного телефона со шкалами МИГ-ТС (формы для мобильного телефона и интернета). Мы ожидали, что расстояние и, в меньшей степени, размер кругов связаны с субъективной зависимостью и изменением психологических границ при пользовании технологиями для той же технологии, но не связаны с другими технологиями.
В соответствии с нашей гипотезой, расстояние (но не размер) круга интернета от «Я»?было связано с изменениями психологических границ при пользовании интернетом, но практически не связано с изменениями границ при пользовании телефоном, и наоборот.
В выборке студентов расстояние мобильного телефона от «Я» слабо или средне отрицательно коррелировало с невозможностью отказа и субъективной зависимостью от телефона, расширением границ в сфере общения, предпочтением телефона благодаря его возможностям, важностью его функциональности и использованием для создания имиджа (r = –0,16…–0,23, p < 0,05).
В выборке взрослых принятого уровня значимости достигают только отрицательные корреляции с невозможностью отказа от телефона и важностью его функциональности (r = –0,27–0,26, p < 0,05).
Расстояние круга интернета от «Я» слабо или средне отрицательно коррелирует в выборке студентов с субъективной зависимостью от интернета, расширением границ в сфере общения, предпочтением интернета благодаря его простоте и созданием имиджа при помощи интернета (r = – 0,32…–0,18, p < 0,05) и положительно – с рефлексией нарушения границ (r = 0,16, p < 0,05). В выборке взрослых принятого уровня значимости достигает только связь с предпочтением интернета благодаря его простоте (r = 0,25, p < 0,05), хотя еще несколько корреляций достигают уровня тенденции.
Субъективная близость технологических и нетехнологических объектов к «Я» и субъективное благополучие
Анализ рисуночной методики стабильно указывает на то, что «встраивание» технологий (интернета, мобильного телефона, телевизора) в идентичность – их субъективная близость к «Я» – сопряжено с субъективным отдалением семьи, личностных черт и интересов. Однако эта методика относительно слабо связана с конкретными психологическими последствиями пользования технологиями (интернетом и мобильным телефоном), являясь, по-видимому, выражением общего недифференцированного переживания близости / отдаления объекта от «Я».
Тогда возникает вопрос: имеет ли связанное с технологиями субъективное отдаление семьи, личностных черт, интересов и ценностей очевидно негативные следствия для благополучия субъекта и его совладания с трудными жизненными ситуациями? Или оно также является лишь общей особенностью, конкретное содержание которой зависит от личностных и ситуативных факторов и должно быть исследовано отдельно? Верно ли, что, изменяя отношение субъекта к семье, технологии изменяют и то, как это отношение сказывается на его благополучии и жизни?
Для ответа на этот вопрос проводилась серия анализов модерации [Chaplin, 2007], задачей которых было выявление того, опосредствует ли субъективная близость технологий к «Я» (интернета, мобильного телефона и телевизора) вклад субъективной близости семьи к «Я» в психологическое благополучие, неблагополучие и совладающее поведение.
Анализ проводился только в отношении семьи, поскольку феномен субъективного отдаления семьи от «Я» при близости технологий был установлен наиболее стабильно. Если «встраивание» технологий в идентичность человека изменяет, опосредствует связь значимости семьи и благополучия, эффект модерации в регрессионном анализе должен быть значимым, а если нет – принятого уровня значимости могут достигать лишь основные эффекты отношения к технологии и к семье сами по себе.
Слабые, но значимые эффекты взаимодействия субъективной близости интернета, мобильного телефона и семьи к «Я» были выявлены лишь в трех случаях в выборке взрослых (в отношении использования успокоительных и индекса выраженности дистресса) и должны рассматриваться как статистический артефакт, связанный с многократными сравнениями.
Таким образом, нельзя сказать, что субъективная близость информационных технологий определяет то, как отношения с семьей сказываются на субъективном благополучии, неблагополучии или совладающем поведении человека.
Обсуждение результатов
Применение рисуночной методики в исследованиях субъективной близости различных объектов (социальных групп, ролей, материальных объектов, информационных технологий) привлекательно не только ее простотой и эмпирическими доказательствами эвристичности [Swann et al., 2009; Gomez et al., 2011; Carter, Gilovich, 2012].
С позиций психологии телесности [Тхостов, 2002] естественно ожидать, что субъективное переживание контролируемого объекта как «своего», как «Я» будет выражаться в физическом расстоянии кругов до «Я» при неопределенной инструкции. А возможность использования любых объектов дает возможность проводить любые сопоставления.
В данном исследовании мы использовали рисуночную методику для проверки гипотезы о том, что идентификация (субъективная близость к «Я») информационных технологий сопряжена с субъективным отдалением в сферах непосредственных межличностных отношений (особенно семьи), а также ценностей и личностных особенностей. Однако выявленные результаты должны интерпретироваться лишь с учетом неопределенности, заложенной в самом инструменте (связанной с его проективным характером).
Диагностические возможности и ограничения рисуночной методики оценки восприятия технологий
Сравнение со страндартизованной методикой диагностики психологических последствий пользования интернетом и мобильным телефоном свидетельствует о валидности методики.
Близость кругов интернета и мобильного телефона к «Я» действительно связана с рядом психологических изменений, особенно – с переживанием невозможности отказа от них, представлениями об их незаменимости, ожиданием доступности окружающих.
Однако, во-первых, эти связи чаще слабые или средние, то есть показатели рисуночной методики связаны, но не эквивалентны опроснику. Во-вторых, они менее выражены или отсутствуют в выборке взрослых, что можно объяснить большей уязвимостью к изменению психологических границ при пользовании технологиями в молодом возрасте [Рассказова и др., 2015].
С нашей точки зрения, в рисуночной методике проявляется скорее недифференцированная субъективная значимость объектов, общая идентификация с ними, нежели конкретные психологические изменения.
Как следствие, вопрос о том, как выявленные при помощи методики особенности восприятия объектов соотносятся с реальной жизнью субъекта, требует в каждом исследовании дополнительной эмпирической проверки.
Изменение межличностных отношений под влиянием технологий: деформация или трансформация?
В соответствии с имеющимися представлениями – как научными [How technologies…, 2009], так и житейскими, все более прочное «встраивание» информационных технологий в жизнь человека сопряжено с уплощением его непосредственного межличностного общения, эмоциональных связей с семейной системой, меньшей ориентацией на традиционные ценности.
Наши результаты согласуются с этим предположением в том смысле, что восприятие человеком своих отношений с технологиями идет «рука об руку» с восприятием им других жизненных сфер и своих особенностей.
В частности, после учета индивидуального стиля рисования респондентов близость технологических объектов к «Я» была связана с большим расстоянием от семьи, личностных черт, интересов и ценностей от «Я». Этот результат был воспроизведен за небольшими исключениями на двух выборках (студентов и взрослых старше 20 лет) для двух объектов – интернета и телевизора, а в выборке взрослых – и для мобильного телефона.
Хотя при использовании диаметров кругов картина менее согласована, общей для разных выборок и объектов является также является отрицательная связь диаметров кругов технологических объектов и круга семьи, а у студентов – и с кругом ценностей.
Если предположить, что расстояние круга от «Я» символизирует субъективную близость объекта для респондента (в том числе, эмоциональную), а размер круга – его значимость (как она понимается в символическом интеракционизме [Stryker, 2007]), можно сделать предварительный вывод, что идентификация с технологическими объектами действительно связана либо с более поверхностными межличностными отношениями, особенно в семье, и трудностями понимания и следования собственным уникальным интересам, ценностям и личностным особенностям, либо с их меньшей субъективной важностью (обособленностью индивида от этих отношений).
Образно говоря, индивид, вовлеченный в информационные технологии, дистанцирован от тех сфер непосредственного общения, которые давали опору в традиционном обществе, и, более того, отстранен, а возможно, отчужден от собственных особенностей личности и ценностей.
Немаловажно, что эти связи не менее характерны для выборки взрослых, чем для выборки студентов (хотя взрослые рисуют технологии дальше от «Я», чем студенты). Это значит, что речь идет об общих изменениях, а не о специфических особенностях какой-либо группы.
Отдельного исследования требует проверка иной функциональной роли мобильного телефона у молодых людей, нежели у взрослых и нежели других технологических объектов. Возможно, что, благодаря обеспечению связи молодого человека с родителями и друзьями, мобильный телефон выполняет неоднозначную функцию, но в большей степени связан с отношением к тем сферам, которые связаны с непосредственными действиями – работой или учебой.
Означают ли эти результаты лишь содержательную трансформацию, перестройку – или могут быть основой опасений в разрушении системы ценностей и устоев традиционного общества, деформации, приводящей к негативным последствиям? Здесь полезно вернуться к ограничению рисуночной методики: показывая общие особенности структуры связей, она ничего не говорит о смысле и, тем более, о следствиях этого.
Идентификация с интернетом, мобильным телефоном и телевизором не опосредствует связи отношения к семье и субъективного благополучия / неблагополучия или совладающего поведения.
Иными словами, человек, воспринимающий информационные технологии как близкие к себе и значимые для себя, склонен воспринимать семью, друзей, свои личностные черты, интересы и ценности как более далекие – но это переструктурирование его восприятия своей жизни не означает деформации.
Преломляясь через призму информационных технологий, процессы жизнедеятельности изменяются содержательно, но в равной мере могут приводить к благополучию или неблагополучию, быть продуктивными или непродуктивными.
Если речь не идет об экстремальных формах искажения (связанных с технологиями иллюзорных представлениях и ожиданиях, чрезмерном использовании технологий и т.п.), эти структурные изменения не являются однозначно негативными, а их функции и следствия (например, к каким изменениям в восприятии семьи и по каким механизмам приводит идентификация с технологиями) должны изучаться в дальнейших исследованиях.
Финансирование
Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 14-06- 00730 «Трансформация высших психических функций в условиях развития информационного общества (культурно-исторический подход)».
Литература
- Емелин В.А., Рассказова Е.И, Тхостов А.Ш. Влияние информационных технологий на трансформацию совладающего поведения. Вопросы психологии, 2014, No. 4, 49–59.
- Осин Е.Н., Леонтьев Д.А. Апробация русскоязычных версий двух шкал экспресс-оценки субъективного благополучия. В кн.: Материалы III Всероссийского социологического конгресса. М.: Институт социологии РАН, Российское общество социологов, 2008 (ISBN 978-6-89697-157-3).
- Рассказова Е.И., Гордеева Т.О., Осин Е.Н. Копинг-стратегии в структуре деятельности и саморегуляции: психометрические характеристики и возможности применения методики COPE. Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2013, 10(1), 82–118.
- Рассказова Е.И., Емелин В.А., Тхостов А.Ш. Диагностика психологических последствий влияния информационных технологий на человека. Учебно-методическое пособие для студентов психологических специальностей. М.: Акрополь, 2015.
- Солдатова Г.У., Нестик Т.А., Рассказова Е.И., Зотова Е.Ю. Цифровая компетентность российских подростков и родителей: результаты всероссийского исследования. М.: Фонд Развития Интернета, 2013.
- Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. М.: Когито-центр, 2007.
- Тхостов А.Ш. Психология телесности. М.: Смысл, 2002.
- Büchi S., Sensky T. PRISM: Pictorial representation of illness and Self measure. A brief nonverbal measure of illness impact and therapeutic aid in psychosomatic medicine. Psychosomatics, 1999, 40(4), 314–320.
- Büchi S., Sensky T., Sharpe L., Timberlake N. Graphic representation of illness: A novel method of measuring patients’ perceptions of the impact of illness. Psychotherapy and Psychosomatics, 1998, 67(4– 5), 222–225.
- Carter T.J., Gilovich T. I am what I do, not what I have: the differential centrality of experiential and material purchases to the self. Journal of Personality and Social Psychology, 2012, 102(6), 1304–1317.
- Carver C.S., Scheier M.F., Weintraub J.K. Assessing coping strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 1989, 56(2), 267–283.
- Chaplin W.F. Moderator and mediator models in personality research. In: R.W. Robins, R.C. Fraley,
- R.E. Krueger (Eds.), Handbook of research methods in personality psychology. New York, NY.: The
- Guilford Press, 2007. pp. 602–632.
- Derogatis L.R., Savitz K.L. The SCL-90-R and the Brief Symptom Inventory (BSI) in Primary Care. In: M.E. Maruish (Ed.), Handbook of psychological assessment in primary care settings. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2000. Vol. 236, pp. 297–334.
- Gomez A., Brooks M.L., Buhrmester M.D., Vazquez A., Jetten J., Swann W.B. On the nature of identity fusion: insights into the construct and a new measure. Journal of Personality and Social Psychology, 2011, 100(5), 918–933.
- Henson R.K. Effect-Size Measures and Meta-Analytic Thinking in Counseling Psychology Research. The Counseling Psychologist, 2006, 34(5), 601–629.
- Hoekstra R., Finch S., Kiers H.A.L., Johnson A. Probability as certainty: Dichotomous thinking and the misuse of p values. Psychonomic Bulletin and Review, 2006, 13(6), 1033–1037.
- How technology changes everything (and nothing) in psychology. 2008 annual report of the APA Policy and Planning Board. American Psychologist, 2009, 64(5), 454–463.
- Emelin V.A., Tkhostov A.Sh., Rasskazova E.I. Psychological adaptation in the info-communication society: The revised version of the Technology-Related Psychological Consequences Questionnaire. Psychology in Russia: State of the Art, 2014, 7(2), 105–120.
- Lyubomirsky S., Lepper H. A measure of subjective happiness: Preliminary reliability and construct validation. Social Indicators Research, 1999, 46(2), 137–155.
- Madell D., Muncher S. Control over social interactions: an important reason for young people’s use of the Internet and mobile phones for communication? Cyberpsychology and Behavior, 2007, 10(1), 137–140.
- Madell D., Muncher S. Back from the beach but hanging on telephone? English adolescents’ attitudes and experiences of mobile phone and the Internet. Cyberpsychology and Behavior, 2004, 7(3), 359–367.
- Shroff M., Fordham A. «Do you know who I am?» – exploring identity and privacy. Informational Policy, 2010, Vol. 15, 299–307.
- Srivastava L. Mobile phones and the evolution of social behavior. Behavior and Information Technology, 2005, 24(2), 111–129.
- Stryker S. Identity theory and personality theory: mutual relevance. Journal of Personality, 2007, 75(6), 1084–1101.
- Swann W.B., Gomez A., Seyle D.C., Morales J.F., Huici C. Identity fusion: the interplay of personal and social identities in extreme group behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 2009, 96(5), 995–1011.
Об авторах
- Вадим Анатольевич Емелин — доктор философских наук, заведующий лабораторией психологии труда, профессор кафедры психологии труда и инженерной психологии факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.
- Елена Игоревна Рассказова — кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова), старший научный сотрудник отдела медицинской психологии, Научный центр психического здоровья, ведущий научный сотрудник международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации, НИУ Высшая школа экономики (ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»), Москва, Россия.
- Александр Шамилевич Тхостов — доктор психологических наук, заведующий кафедрой нейрои патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.
Смотрите также:
- Войскунский А.Е. Современные тенденции киберпсихологических исследований
- Крайнюков С.В. Влияние современных информационных технологий на картину мира человека
- Максимов А.С., Мануйлова Л.М. Диагностика влияния рисков интернет-пространства при использовании школьниками старшего подросткового возраста гаджетов
- Проект Ю.Л., Богдановская И.М., Королева Н.Н. Развитие сетевых технологий как фактор трансформаций жизненного пространства современного человека
ПРИМЕЧАНИЕ
- Единственное исключение составила положительная корреляция расстояния от «Я» мобильного телефона и телевизора в выборке взрослых r = 0,23, p < 0,05.
- Поскольку выше мы показали, что размеры и расстояния кругов зависят от общей стратегии рисования у респондентов, здесь использовались скорректированные показатели, из которых вычитались средние для каждого респондента расстояние или размер соответственно. Это значит, измерялось то, насколько расстояние и размер кругов интернета, мобильного телефона и телевизора превышает средние для данного респондента.